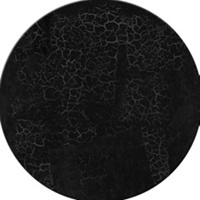Поль Клодель «Глаз слушает»: Введение в голландскую живопись
Когда я пытаюсь определить, закрепить на бумаге впечатление, оставшееся у меня от этой страны после слишком коротких встреч с ней, не сразу возникает потребность обратиться к зрительной памяти. В Голландии взгляд путешественника не находит для себя естественных рамок, внутри которых каждый размещает свои воспоминания и размышления. Природа не наделила ее четкой линией горизонта, а лишь размытой границей между вечно изменчивым небом и землей, которая через бесконечную череду оттенков приближается к пустоте. Здесь наша мать-Природа не пожелала торжественно и высокопарно заявить о себе такими грандиозными сооружениями, как горы, внести драматизм с помощью водопадов, самовыразиться в рутых скалах и отлогих склонах, длинных вереницах холмов, то прерываемых, то возобновляемых, которые развивают и исчерпывают мелодию пейзажа. Ни пауз, ни неожиданностей, никакого внезапного потрясения или хотя бы неотразимого соблазна, как в долинах Луары или Сены, ни одного из тех препятствий, тех вздыбливаний, которыми движение земли противится движению вод и сдерживает его. Здесь человек становится обитателем или гостем растительно- водного покрова, обширной поверхности, по которой глаз перемещается так свободно, что не сообщает ногам ни малейшего импульса к движению. Все здесь было выровнено, вся эта протяженность податливой земли, готовой превратиться в яркий цветочный ковер и в молочные фермы, была отдана человеку, чтобы он сделал себе из нее пастбище и сад. И человек сам взялся обозначить горизонт — своими деревнями и колокольнями, разбросанными здесь и там купами деревьев. Мы определяем расстояние по прямым линиям каналов, чьи берега сходятся вдали под острым углом, а ориентирами нам служат животные на безбрежной зеленой равнине — вначале ясно различимые стада, затем разбросанные до бесконечной дали светлые точки; залитое солнцем озеро рапса; многоцветная палитра гиацинтовых и тюльпановых полей. И все же, когда находишься в центре этого зеленого эмалевого циферблата, ни на минуту не возникает ощущения неподвижности. И дело не только в бесконечной игре света и тени по мере того, как день разгорается, а затем угасает среди необъятных небес, где все время что-то свершается или что- то готовится. И не только в этом непрестанном дуновении, мощном, словно буря, влажном и мягком, как дыхание человека, как тепло, которое мы чувствуем щекой, когда рядом кто-то разговаривает, — это дуновение повсюду, сколько хватает глаз, весело подхватывают ветряные мельницы; они надаивают воду и наматывают на себя туман, — не только это дуновение, порой слабея, порождает в нас ощущение текущего времени, осознание метафизической сути, всеобщей взаимосвязи, бесконечно сложного и разнообразного бытия вещей, живущих вокруг. Мы начинаем понимать, что вокруг нас тихо и единодушно свершается некий общий труд, который можно уподобить взвешиванию и медлительному отсчету времени, и вскоре нам уже не чуждо довольство умиротворенной, просветленной, радостной души. В отсутствие предмета, назойливо притягивающего взгляд, мысль естественным образом растворяется в созерцании. Не кажется удивительным, что именно в этой стране Спиноза создал свою геометрическую поэму. Возникает нечто, похожее на состояние души у моряков: ослабление интереса к житейским обстоятельствам и возросшее желание быть в ладу со стихиями, глаз, привыкший глядеть вдаль, становится верным и острым, стремишься не подготавливать событие, а использовать явление природы. Разве можно поверить, что в этом краю, пропитанном морем, где даже трава и листья живут таинственными морскими соками, человеческая душа осталась в стороне от этой глубинной связи, если именно от нее зажегся на щеках здешних девушек яркий, как тюльпан, румянец?
Чтобы вы меня лучше поняли, прибегну к сравнению из жизни человеческого духа. Когда внутри нас подготавливаются или завершаются большие события, когда круто изменяются наш образ мысли, жизнь чувств или склад характера, когда за мелкими повседневными происшествиями мы ощущаем приближение одного из тех мощных, неудержимых приливов, что зовутся большой любовью, большим горем или обращением к Богу, когда мы замечаем, что первые преграды уже размыты, что уровень нашего горизонта поднялся, что все выходы нашей душе перекрыты, когда, покидая еще вчера нетронутое, а сегодня затопленное поле, мы видим, что в самых потаенных и загадочных глубинах нашего «я» неотступно поднимается вода, и вторжение чужеродной силы угрожает сломить нашу последнюю защиту, — как тут не вспомнить Голландию в полдень, когда, плывущий в триумфе на тысячах судов, под хлопанье своего трехцветного флага, бог морских зыбей, вступая во владение всей этой сетью кровеносных сосудов, очередной раз является с визитом в подвластную ему страну? Уступая этому могучему напору, наполняются шлюзы, один за другим разводятся мосты, выполняя роль весов, старые лодки, севшие на мель, высвобождаются из своей илистой темницы, из отверстых плотин вырываются бурливые потоки, и Семь Соединенных Провинций всей своей плотью очередной раз ощущают то ни с чем не сравнимое сотрясение, которому в эпитафии великому адмиралу Рейтеру дано такое великолепное название: Immensi tremor Ocean?
Но наступает и другой час, когда душа, чье горло словно бы перехвачено этим недругом, чувствует, как его хватка понемногу ослабевает, а вода, грозившая вас поглотить, убывает, спадает, неудержимо утекает через все выходы, унося с собой частицу нас самих. Одна за другой открываются земли, которые казались утраченными безвозвратно, и глаз, опережая руку, снова возвращает себе окружающие пространства, обновленные и оплодотворенные.
Не пытайтесь понять Нидерланды, если, оказавшись там надолго и всерьез, вы не чувствуете под ногами скрытую упругость почвы, если не ощущаете собственного участия в этом космическом ритме, словно грудь, которая то вздымается, то опадает.
Голландия — это громадное дышащее тело, и что есть обширный выем Зюйдер-Зее посреди нее, как не своего рода легкое? Два раза в день она полной грудью, всем нутром вбирает в себя море, словно струю соленого молока, и два раза в день на этих на миг упокоившихся водах происходит обмен того, что прибыло, на то, что приготовлено к отправке. Будто прозвонил некий колокол, и открылась Биржа, — я говорю «биржа» в обоих смыслах этого слова — в смысле вместилища ценностей, ибо что может быть богаче этой лавки, где в обмен на все сокровища Индии, на все товары, перечисленные в «Апокалипсисе»,— и шелка, и багряницы, и всякого благовонного дерева, и всяких изделий из слоновой кости, из меди, железа и мрамора, корицы и фимиама, и мира и ладана, и вина и елея, и муки и пшеницы, и скота и овец, и тел и душ человеческих, — Рейн и Маас отдают свое золото?...
... В самом деле, я думаю, что мы научились бы лучше понимать голландские пейзажи, эти поэмы созерцания, эти кладези молчания, порожденные скорее внутренней сосредоточенностью, нежели любопытством, если бы сумели вслушаться в них, пока они обогащают наш разум через зрение. Первое, что поражает в них, по сравнению с тесными, нагруженными до отказа английскими и французскими картинами, — это огромная важность пустого пространства по отношению к заполненному. Поражает неторопливость, с которой тон, проходя через бесконечную череду нюансов, закрепляется в линии и форме. Пространство вступает в союз с пустотой, вода на бескрайней равнине приманивает к себе облака. И постепенно начинаешь видеть — я чуть не сказал «слышать», как из этого заговора стихий рождается некая горизонтальная мелодия, подобная флейте виртуоза, подобная долгой скрипичной ноте. Это молчаливая линия, которая вычерчивается параллельно другой линии, это зрелище, которое после задумчивой паузы снова оживает в мечте, одухотворяясь вследствие своей удаленности от первоисточника. Как в шедеврах японского искусства, основным элементом композиции здесь всегда служит треугольник, будь то вытянутый вверх треугольник, равнобедренный, превращающийся в парус и колокольню, или же обращенный вниз разносторонний треугольник, начинающийся у рамы и завершающийся узким острием. Словно гамма, которую мы можем пропеть как нам угодно — хоть снизу вверх, хоть сверху вниз. Он присутствует всегда — это он крепнет и расширяется в крещендо, когда мы движемся по нему вверх, до самых крыльев ветряной мельницы, или же, как у Рейсдаля, внезапно обрывается, оборачиваясь нагромождением округлых скал и завитками листвы; это он вытягивается в длинный плот с колокольнями вместо мачт на полотнах Яна ван Гойена; это он по прихоти нашего воображения наделяет движением и тайной жизнью все это текучее и в то же время застывшее целое, в котором для нас длительность, оцепенев, замерла в экстазе...
До сих пор я говорил о пейзажах, представляющихся нам, так сказать, со среза, в профиль. Но есть и совершенно другая их разновидность, как, например, «Аллея в Мидделхарнисе» Хоббемы или картины ван дер Неера, которые обращены к нам лицом. В самой середине этих картин дорога, канал или более или менее извилистый ручей распахивают на самой середине воображаемое пространство, приглашая нас исследовать его. Или же, затемненный, подробно выписанный передний план выделяется на фоне сияющей водной глади, которая отделяет реальность от мечты и за которой виднеется далекий город. Нас впустили — я чуть не сказал: втащили — внутрь композиции, и созерцание превращается для нас в приманку. Где мы? Еще секунда — и захочется покрепче затянуть на собственных ногах ремень волшебной обуви, вроде крылатых сандалий, покорных проводнику душ Гермесу, тем самым движением, которое голландские мастера так часто подмечали у конькобежцев.
Идем дальше! И поскольку нас пригласили сюда столь любезно, будем послушны этой руке, проскользнувшей в нашу руку и влекущей нас за собой куда-то дальше, зовущей нас войти внутрь. Ван дер Неер и Хоббема показали нам природу изнутри, другие поведут нас внутрь человеческого жилья, а еще один, величайший из всех, поведет внутрь самой души человеческой, где светит «Свет истинный. Который просвещает всякого человека, приходящего в мир», вопрошая тьму, которая не решается принять его. Я знаю, что, приписывая голландской живописи некую особую миссию, некую скрытую направленность, я вступаю в противоречие с большинством знатоков и в особенности — с самым значительным из них: я имею в виду проницательного и сведущего критика, замечательного писателя, каковым является Эжен Фромантен. Вспоминается чудесная страница из «Старых мастеров», и я не могу отказать себе в удовольствии привести ее здесь.
«Пришло время размышлять поменьше, метить пониже, пристальнее наблюдать и писать не хуже, нем раньше, — но по-другому. Это живопись толпы, обывателя, человека труда, выскочки и первого встречного, созданная только для него, созданная им самим. Нужно сделаться смиренным для вещей смиренных, маленьким для вещей маленьких, хитрым для вещей хитрых, принять все, ничего не отбирая и ничем не пренебрегая, по-дружески заглянуть в их частную жизнь, любовно вникнуть в привычки: тут все дело в симпатии, прилежном любопытстве, в терпении. Отныне гений будет состоять в том, чтобы ничего не отвергать, забыть, что знал, дать модели застать себя врасплох, спрашивать лишь у нее самой, как она желает, чтобы ее изобразили».
И к этому Фромантен добавляет, словно не замечая разрыва или противоречия между следующей фразой и предыдущей:
«Если оставить в стороне Рембрандта, который был исключением как у себя в стране, так и в других странах, как в его время, так и во все времена », — здесь я поставлю вопросительный знак, — «то во всех мастерских Голландии вы увидите лишь один стиль, лишь один метод. Цель художника — воспроизвести то, что есть, полюбить то, что он воспроизводит, четко выразить простые, сильные и верные ощущения. Поэтому стиль отныне приобретает простоту и ясность принципа. Искренность становится для него законом. Его главное правило — быть дружелюбным, естественным и хорошим физиономистом: для этого требуются определенные нравственные достоинства, простодушие, терпеливая настойчивость, прямота. В общем, домашние добродетели переносятся в сферу искусства, они одинаково полезны и желающему хорошо себя вести, и желающему стать хорошим художником. Если вы отнимете у голландского искусства его честность, то его жизнетворный принцип навсегда останется для вас загадкой, и вы уже не сможете дать определение ни его нравственному содержанию, ни его стилю. Но как в самой обыденной жизни есть средства, способные возвысить и облагородить самый образ действий, этих художников, по большей части слывущих близорукими копиистами, вы находите душевное величие и доброту, любовь к истинному, привязанность к настоящему, которые наделяют их произведения ценностью, казалось бы, не свойственной материальным предметам. Так и рождается их идеал, идеал мало кем признанный, зачастую презираемый, но несомненный для того, кто хочет в него вникнуть, и очень привлекательный для того, кто сумеет его оценить. Порою малая толика обостренной чувствительности превращает их в мыслителей, даже в поэтов».
Последняя фраза доставляет удовольствие и исправляет оценку, которую, хоть она и соседствует со многими точными и тонкими замечаниями, я все же нахожу ошибочной. Малая толика — это много, как я только что говорил по поводу синей крупинки соли и красного зернышка перца, и я утверждаю, что эта скрытая острота присутствует в каждой композиции старых голландских мастеров. Нет среди них ни одной, которая помимо того, что говорит в полный голос, не хотела бы сказать чуть слышно что-то еще. Нам же нужно внимательно слушать, вникать в невысказанное. Фромантена, а вместе с ним и большинство знатоков голландской живописи ввело в заблуждение разительное несоответствие атмосферы, точки зрения, отправной точки у голландцев — и поэтики (чуть не сказал: риторики) классицизма и барокко, искусства, которое в их эпоху достигло наивысшего расцвета в Италии и во Фландрии, искусства полнозвучного, щедрого, блестящего, красноречивого, велеречивого и полного условностей. Чтобы охарактеризовать его, лучше всего привести еще одну страницу из «Старых мастеров»:
«Тогда было в обычае мыслить смело, возвышенно, широко, искусство отбирало натуру, приукрашивало, подправляло, жило скорее в абсолютном, чем в относительном; оно видело действительность такой, как она есть, но предпочитало показывать ее такой, какою она не бывает. Все было в большей или меньшей степени привязано к человеческой личности, зависело от нее, подчинялось ей и выравнивалось по ней, постольку поскольку некоторые законы, пропорции и некоторые категории, такие, как изящество, сила, благородство, красота, тщательно изученные в человеке, возводились затем в теоретические принципы и применялись также и к тому, что не было человеком. Получалась некая всеобщая очеловеченность или очеловеченная всеобщность, прототипом которой являлось человеческое тело в его идеальных пропорциях. Будь то история, видения, верования, догматы, мифы, символы, эмблемы, — человеческий образ почти исключительно выражал все, что может быть им выражено. Где-то там, вокруг этой всеобъемлющей фигуры, смутно виднелась природа. Ей отводили роль разве что рамы, которая должна была сузиться или исчезнуть сама собой, как только в ней занимал место человек. Все подвергалось исключению либо синтезу. Поскольку требовалось, чтобы каждый предмет заимствовал свою зримую форму у одного и того же образца, ничто не могло преступить закон. Согласно этим законам исторического стиля пространство сжимается, горизонты сужаются, от деревьев остается совсем немного, небо становится менее изменчивым, воздух более прозрачным и ровным, а человек в большей степени подобен самому себе, чаще обнажен, чем одет, как правило, статен телом, прекрасен лицом, чтобы он мог лучше справиться с ролью, которую его заставляют играть»...
Фрагмент книги Поля Клоделя «Глаз слушает»
Альбомы
Голландские пейзажи
Брейгели
Фламандская живопись